Как Вы пришли в институт?
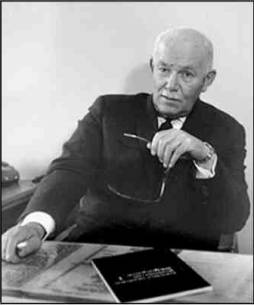 - Я пришел в институт в 1966 году после окончания второго медицинского
института. Тогда это было закрытое, режимное учреждение. Нас пришло 8
человек, сейчас из этого набора работают: Александр Антонович Чирков,
Юрий Юрьевич Осипов, недавно ушел Виктор Борисович Писчик...
- Я пришел в институт в 1966 году после окончания второго медицинского
института. Тогда это было закрытое, режимное учреждение. Нас пришло 8
человек, сейчас из этого набора работают: Александр Антонович Чирков,
Юрий Юрьевич Осипов, недавно ушел Виктор Борисович Писчик...
Мы шли работать в передовую область науки, в прекрасно оснащенный институт. Кроме того, привлекала еще и возможность участия в исследованиях со здоровыми людьми, что для нас, работающих в клиниках, было очень ново и интересно. Борис Егоров, пришедший на отбор группы, дал нам понять, что мы будем иметь дело с космосом. У каждого в то время была мечта полететь в космос. Когда мы прошли мандатную комиссию, нас поместили на полтора месяца в клинический отдел для прохождения медицинской комиссии. И поначалу говорили, что мы будем испытывать новые средства защиты космонавтов в наземных условиях. Нам говорили - в наземных условиях, мы же думали: «А вдруг нам посчастливится?» В результате оказалось, чо жесткую медицинскую комиссию никто из нас пройти не смог. И тогда стало ясно, что с этой мечтой придется распрощаться.Каждому из нас предложили пойти работать в научные подразделения Института. Но поскольку у меня было желание работать со здоровыми людьми, то нам с Сашей Чирковым и Игорем Азаровым предложили работать в клиническом отделе. Мы согласились и были зачислены старшими лаборантами в подразделение, руководимое Петром Ивановичем Егоровым, был такой известнейший врач, он возглавлял в 52-53 году 4-е главное управление и пострадал в «деле врачей», однако руководство Института, несмотря на это, сочло возможным приобщить его к проблеме отбора космонавтов. Работал я у Маркса Михайловича Каратаева, исследовал функции почек при воздействии ускорений во время отбора будущих космонавтов - это были ребята из НПО «Энергия», многие из них потом побывали в космосе: Валерий Кубасов, Алексей Елисеев, Николай Рукавишников, Виталий Севастьянов. Были получены очень интересные результаты. Для меня это было очень важно, так как именно в тот момент я решал, остаться в Институте или заниматься урологией - в то время мне предлагали перейти в ординатуру на кафедре урологии мои учителя из 2-го мединститута (Антон Яковлевич Пытель и Анатолий Федорович Даренков).
После некоторых колебаний решил остаться в ИМБП. Этому решению способствовала
беседа с Ученым секретарем Института Константином Владимировичем Смирновым
и, конечно, встреча с Василием Васильевичем Париным, который предложил
мне поступить к нему в аспирантуру. Для меня это было неожиданно, тем
более что я знал, что Василий Васильевич - специалист по сердечно-сосудистой
системе. Я ему сказал, что хочу заниматься только физиологией почек. Он
ответил, что согласен с этим. После этого я с бестактностью, которая свойственна
молодости, заметил, что диссертацией должен руководить специалист. Он
не обиделся, а спросил, есть ли у меня кто-нибудь на примете. Я сказал,
что это - мой учитель и наставник Антон Яковлевич Пытель. Он ответил:
«Нет проблем, мы с Антоном приятели». Он позвонил Антону Яковлевичу, они
быстро договорились о совместном руководстве, и через несколько дней я
сдавал экзамены в аспирантуру. Конечно, аспирантура у Василия Васильевича
была для меня большой удачей, хотя первый год мы общались очень мало.
Но в 1968 годуВасилий Васильевич решил уйти из Института. Это был второй
год моей  аспирантуры.
Мы с ним начали часто встречаться и в домашней обстановке, и в его лаборатории
в Академии наук.
аспирантуры.
Мы с ним начали часто встречаться и в домашней обстановке, и в его лаборатории
в Академии наук.
Вот тогда-то я и узнал, что это за человек - мудрый, терпимый к другим и очень требовательный к себе. Он дал мне огромный объем знаний не только рофессиональных, но и общечеловеческих. Василий Васильевич очень многого добился уже в молодые годы: в 40 лет он был одним из создателей Медицинской академии, заместителем Наркома здравоохранения, ректором Первого медицинского института. И вдруг это несчастье, когда его обвинили в измене Родине и многие годы он провел во Владимирском Централе. Но даже в тюрьме он продолжал работать, писать, до сих пор помню этот бисерный почерк - на небольшом количестве бумаги он старался разместить нескончаемый поток своих идей (его супруга, Нина Дмитриевна, показывала мне эти письма). Когда он вернулся из заключения, не брали на работу, но его хороший друг, Александр Леонидович Мясников, известный кардиолог, пригласил Василия Васильевича в Институт кардиологии, потом его восстановили в Медицинской академии, затем - в большой Академии. Он стал директором Института патологической физиологии, а в 1966 году - директором ИМБП. Василий Васильевич создал известную научную школу, и я с гордостью причисляю себя к ней. В нашем институте работают его ученики: Борис Матвеевич Федоров, Роман Маркович Баевский, Владимир Павлович Кротов. Недавно, к сожалению, ушел из жизни Евгений Борисович Шульженко. Нам всем посчастливилось работать с этим удивительным и замечательным человеком. Если говорить о первых шагах нашего Института, то наряду с Василием Васильевичем, необходимо вспомнить и Андрея Владимировича Лебединского, - именно они со своими единомышленниками закладывали основу этого замечательного учреждения.
- Каким Вы увидели Институт, когда пришли сюда?-
Когда я пришел в ИМБП, здесь все бурлило. Институт строился. Было всего
несколько зданий на основной территории; Планерной еще не 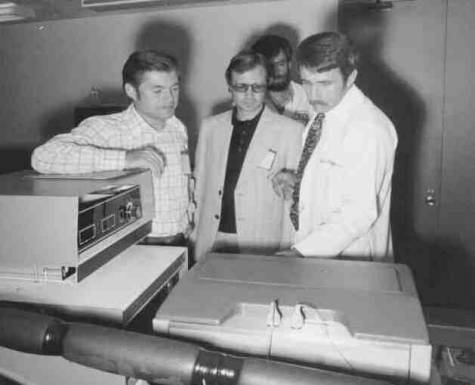 было;
клинотдел размещался в 6-й больнице. Мы были разбросаны по разным местам,
появлялись филиалы в Красноярске и Киеве. Институт расширялся, перед ним
стояло множество задач. Было очень много молодежи. Работали упорно, окна
горели до 12 ночи. Это было очень хорошее время, аспирантура, молодость...Вопросов
было больше, чем ответов. Все было внове. У меня были удивительные учителя.
Наряду с Василием Васильевичем - Леонид Иванович Какурин, Сергей Вадимович
Чижов, люди, которых сейчас уже нет, но которые стольких молодых людей
поддержали и помогли им найти свое место в науке, доброжелательные, умеющие
поставить задачу и ненавязчиво подсказать в трудные моменты, не претендующие,
что очень важно, на особую роль при публикации материалов. Все складывалось
удивительно хорошо. И самое главное -никто мне не мешал делать то, что
я хотел. Мне только помогали, советами и делом, реализовать те задумки,
которые были. Это удивительно, потому что некоторые сотрудники говорят:
«Мне не дали поставить эксперимент» или «мне не дали опубликовать статью».
У меня никогда такого не было. Может быть, это какое-то везение, но было
именно так. Рядом были удивительные товарищи, друзья: Андрей Назин, Леша
Савилов, Валера Лобачек, Валерий Михайлов - всех не перечислю. Нам было
интересно, мы знали, что делаем очень важное дело, понимали, что если
не поставим эти эксперименты, то не сможем осуществить важные полетные
исследования. Полеты тогда были короткие, но уже стало ясно, что без разработки
тех или иных средств профилактики более сложные и продолжительные полеты
не могут быть реализованы. Мы понимали, что от нас, молодых, очень много
зависит. Поэтому были эти ночные бдения и постоянные эксперименты, и порой
мы не успевали детально обрабатывать результаты. Разумеется, нужен был
более глубокий анализ, но для нас тогда главным был результат. Мы постепенно
продвигались в создании уникальной системы медицинского обеспечения длительных
космических полетов. Это большое достижение коллектива Института. Конечно,
в течение всех этих лет она модифицируется, уточняется, но к концу 70-х
годов она была создана. И создавали ее не только сотрудники Института,
но и наши смежники: сотрудники Военного института, завода «Звезда», НПО
«Энергия», ЦПК, других организаций. Это было золотое для нас время - работать
на космос было престижно. И наша кооперация очень часто работала с нами
не за деньги, а за интерес. И я думаю, что все те, кто работал в эти годы
- счастливые люди, потому что они видели, что результаты их деятельности
нужны стране. Это не высокие слова, так было на самом деле. Действительно,
это была та область знаний, техники и науки, которая всячески поддерживалась
теми, от кого зависело принятие решений. Без мощной материальной, технической
и интеллектуальной поддержки вряд ли мог быть осуществлен такой прорыв.
Этот колоссальный задел и сейчас позволяет Институту очень эффективно
использовать некоторые наработки. Надо отдать должное тем, кто начинал.
Я не отношу себя к ним, начинали те, кто был постарше. Начинать всегда
самое сложное. А начало - как говорили древние - это половина успеха.
Поэтому надо отдать дань тем людям, которые выбрали вер-
было;
клинотдел размещался в 6-й больнице. Мы были разбросаны по разным местам,
появлялись филиалы в Красноярске и Киеве. Институт расширялся, перед ним
стояло множество задач. Было очень много молодежи. Работали упорно, окна
горели до 12 ночи. Это было очень хорошее время, аспирантура, молодость...Вопросов
было больше, чем ответов. Все было внове. У меня были удивительные учителя.
Наряду с Василием Васильевичем - Леонид Иванович Какурин, Сергей Вадимович
Чижов, люди, которых сейчас уже нет, но которые стольких молодых людей
поддержали и помогли им найти свое место в науке, доброжелательные, умеющие
поставить задачу и ненавязчиво подсказать в трудные моменты, не претендующие,
что очень важно, на особую роль при публикации материалов. Все складывалось
удивительно хорошо. И самое главное -никто мне не мешал делать то, что
я хотел. Мне только помогали, советами и делом, реализовать те задумки,
которые были. Это удивительно, потому что некоторые сотрудники говорят:
«Мне не дали поставить эксперимент» или «мне не дали опубликовать статью».
У меня никогда такого не было. Может быть, это какое-то везение, но было
именно так. Рядом были удивительные товарищи, друзья: Андрей Назин, Леша
Савилов, Валера Лобачек, Валерий Михайлов - всех не перечислю. Нам было
интересно, мы знали, что делаем очень важное дело, понимали, что если
не поставим эти эксперименты, то не сможем осуществить важные полетные
исследования. Полеты тогда были короткие, но уже стало ясно, что без разработки
тех или иных средств профилактики более сложные и продолжительные полеты
не могут быть реализованы. Мы понимали, что от нас, молодых, очень много
зависит. Поэтому были эти ночные бдения и постоянные эксперименты, и порой
мы не успевали детально обрабатывать результаты. Разумеется, нужен был
более глубокий анализ, но для нас тогда главным был результат. Мы постепенно
продвигались в создании уникальной системы медицинского обеспечения длительных
космических полетов. Это большое достижение коллектива Института. Конечно,
в течение всех этих лет она модифицируется, уточняется, но к концу 70-х
годов она была создана. И создавали ее не только сотрудники Института,
но и наши смежники: сотрудники Военного института, завода «Звезда», НПО
«Энергия», ЦПК, других организаций. Это было золотое для нас время - работать
на космос было престижно. И наша кооперация очень часто работала с нами
не за деньги, а за интерес. И я думаю, что все те, кто работал в эти годы
- счастливые люди, потому что они видели, что результаты их деятельности
нужны стране. Это не высокие слова, так было на самом деле. Действительно,
это была та область знаний, техники и науки, которая всячески поддерживалась
теми, от кого зависело принятие решений. Без мощной материальной, технической
и интеллектуальной поддержки вряд ли мог быть осуществлен такой прорыв.
Этот колоссальный задел и сейчас позволяет Институту очень эффективно
использовать некоторые наработки. Надо отдать должное тем, кто начинал.
Я не отношу себя к ним, начинали те, кто был постарше. Начинать всегда
самое сложное. А начало - как говорили древние - это половина успеха.
Поэтому надо отдать дань тем людям, которые выбрали вер-
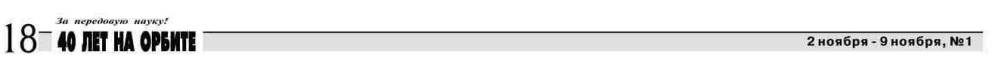

 было в жизни. Были и неудачи, и просчеты, к сожалению, серьезные, но в конце
концов был достигнут результат.
было в жизни. Были и неудачи, и просчеты, к сожалению, серьезные, но в конце
концов был достигнут результат.  -
Да, в последнее время молодежь стала приходить в Институт. Хотелось бы,
чтобы для этих молодых людей Институт стал родным домом. И я с удовольствием
наблюдаю за вами и вижу, что многим здесь интересно. Читаю ваши странички
на сайте. Жизнь в научном учреждении, особенно для молодых людей, - это
прежде всего постоянное общение. Оно складывается не только из обсуждения
экспериментов, прочитанных книг и статей, но и возможности поговорить
о жизни, отпраздновать день рождения. И если коллектив полноценный, то
все это у него есть. Наш успех зависит от того, какие у нас научные сотрудники,
особенно молодые. Надо помогать молодым людям, как помогали нам, быть
полноправными членами и хозяевами коллектива. Будет это получаться - хорошо.
Нет - молодежь будет уходить. Ведь дело не только в скромной заработной
плате. Дело в том, что им зачастую не комфортно, неинтересно, пресно.
Мне нравится, как работает наш Совет молодых ученых. Это люди увлеченные,
с удовольствием занимающиеся наукой, интересующиеся искусством. Задача
руководства Института - попытаться таких ребят вовлечь в процесс управления
Институтом. Важно, чтобы молодым людям доверяли быть ответственными за
эксперименты, чтобы к ним прислушивались, с ними считались, а не просто
"отмахивались". Это и создает атмосферу в коллективе - для меня
это очень важно. Если это не получается, обидно, что у меня не получается
сделать то, что в свое время сделали для меня. Мне есть с чем сравнивать,
и я понимаю, на кого надо равняться. Я видел, сколько сделал для молодежи
Института Олег Георгиевич Газенко.
-
Да, в последнее время молодежь стала приходить в Институт. Хотелось бы,
чтобы для этих молодых людей Институт стал родным домом. И я с удовольствием
наблюдаю за вами и вижу, что многим здесь интересно. Читаю ваши странички
на сайте. Жизнь в научном учреждении, особенно для молодых людей, - это
прежде всего постоянное общение. Оно складывается не только из обсуждения
экспериментов, прочитанных книг и статей, но и возможности поговорить
о жизни, отпраздновать день рождения. И если коллектив полноценный, то
все это у него есть. Наш успех зависит от того, какие у нас научные сотрудники,
особенно молодые. Надо помогать молодым людям, как помогали нам, быть
полноправными членами и хозяевами коллектива. Будет это получаться - хорошо.
Нет - молодежь будет уходить. Ведь дело не только в скромной заработной
плате. Дело в том, что им зачастую не комфортно, неинтересно, пресно.
Мне нравится, как работает наш Совет молодых ученых. Это люди увлеченные,
с удовольствием занимающиеся наукой, интересующиеся искусством. Задача
руководства Института - попытаться таких ребят вовлечь в процесс управления
Институтом. Важно, чтобы молодым людям доверяли быть ответственными за
эксперименты, чтобы к ним прислушивались, с ними считались, а не просто
"отмахивались". Это и создает атмосферу в коллективе - для меня
это очень важно. Если это не получается, обидно, что у меня не получается
сделать то, что в свое время сделали для меня. Мне есть с чем сравнивать,
и я понимаю, на кого надо равняться. Я видел, сколько сделал для молодежи
Института Олег Георгиевич Газенко.  -
Я, конечно, понимаю, что Вам помогают все сотрудники Института, вне зависимости
от должности. И все же - кто больше всего Вам помогает, именно в Вашей
работе?
-
Я, конечно, понимаю, что Вам помогают все сотрудники Института, вне зависимости
от должности. И все же - кто больше всего Вам помогает, именно в Вашей
работе?